Kol & Nadia

undress these beautiful lies
blind me with animal eyes
carve your heart into mine
Франция, Париж
MIGHTYCROSS |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » MIGHTYCROSS » adventure time » until it hurts
Kol & Nadia

undress these beautiful lies
blind me with animal eyes
carve your heart into mine
Франция, Париж
❝ I KNOW I'VE ONLY FELT RELIGION
W H E N I ' V E L I E D W I T H Y O U ❞

внешний вид*
Затянутое серыми тучами небо становится светлее, когда лучи солнца разделяют мрачную стену, вырисовывая на ней дыры различного размера, что тянутся длинным замысловатым узором, освещая определённые места продрогшей от осенней сырости земли. Холод врывается не только в этот мир своими проливными дождями и восточным ветром, но и находит ключик к самой душе, открывая дверцы нараспашку, чтобы была возможность остудить то, что и так давно погибло под коркой белого льда, что впивается своими льдинками в самое сердце. Холод становится вечным другом _ напарником, от которого, кажется, невозможно просто избавиться, пока кто-то не коснётся своей горячей ладонью оледеневшей души. Словно война, так долго, так нудно и тяжко тянутся дни со сквозящей насквозь душой, что отупляет всякое сознание, всякие чувства, превращая в нечто потерянное, оторванное от всякой реальности. Склоняющийся по переулкам призрак, не отбрасывающей какой-либо тени в принципе. Единственное, что можно почувствовать, так это сквозящее со всех сторон горе, обволакивающее его, словно укутывая в колючее шерстяное одеяло. Вперемешку с безудержным вальсом опадающих листьев тащится бесформенная одинокая фигура, которую просто нужно направить на верный путь // ближе к свету, чтобы она на мгновение ощутила искрящийся в душе блеск, посмотрев на этот мир глазами, поддёрнутыми плёнкой неприкрытого желания и лёгкой, едва ли ощутимой, долькой счастья, струящейся терпким горячим потоком [сравнимое с привкусом сладковато-горьковатого портвейна, что обжигает горло] по венам. Быстрее. Набирает обороты, чтоб слиться с нахлынувшей волной страха _ безумия _ отчаяния, чтобы разбит на сотни осколков огромный айсберг, ставший причиной многочисленных бед и одной из немногих, почему осенний холод вперемешку с подтянутой за уши ностальгией, пока перелистываешь исписанную _ истёртую до дыр тетрадь воспоминаний, что отдаётся многочисленными вспышками _ флешбеками в сознание, делая чертовски глубокий укол по самому сердцу, которому сейчас необходима защита и поддержка, а не новые удары, нанесённые тупым лезвием, лишь бы больнее. Дрожь в теле нарастает вместе со свистом меж опавших листьев, ещё немного задерживающихся в воздухе прежде, чем упасть осторожно на гладкую поверхность отражения в черноватой водице очередного бара с яркой неоновой вывеской, огни которой зажигаются с наступлением сумерек; или печально сидящего на бордюре художника, макающего кисточку в одну и ту же синюю краску по сотню раз на протяжении целой минуты, чтобы потом нанести бесформенные небрежные мазки поверх едва желтоватой бумаги, передающей состояние души мастера, отдающее меланхолией, но едва ли из-за проблем с разбитым _ потревоженным кем-то сердцем; или же поверх отражения играющего звонкий джаз саксофониста, который не может устоять даже перед надвигающейся апатией, завладевающей чужими душами, когда он так сильно хочет внести в неё что-то яркое, свежее, переливающееся многочисленными красками, дабы отвести внимание от печальной картины одинокого художника, единственный друг которого почему-то улетел в далёкие тёплые края с первым наступлением терпких морозов. Ещё не такую картину пожелтевшего Нового Орлеана можно увидеть, по большому счёту он кажется таким серым, таким унылым и потерянным, что хочется пробраться сквозь эту золотую мишуру и улететь. Выше, к птицам. Может, выше них? Выше этих серых облаков, что отказываются пропускать согревающее лучи? Выше всей этой жизни, окутавшей и погрузившей в дикий мрак, который затуманил глаза, лишая сознания, лишая возможности думать _ видеть _ чувствовать до тех пор, пока ты не превратишься в того самого слоняющегося призрака, кем уже однажды был, познав всю его сущность за десять обречённых на страдания и муки дней. Выживание – закон всех, в чьих жилах течёт кровь великого рода. Только благодаря отработанным веками навыкам [выживанию] ты медленно, приземляющейся птицей, опускаешься на покрытые белой пеной скалы близ бушующего моря, чтобы посмотреть в покрытую призрачной _ мрачной тенью даль, пытаясь увидеть там хотя бы отблеск своего будущего, но вместо этого что-то другое? И тебе медленно ломают крылья, запирают в клетке, не позволяя улететь как можно дальше, дабы пережить холод приближающейся осени. А тебя тянет к свободе, тянет к жизни, налитой сочными красками и пропитанной вкусом сладчайших ягод. Бьешься в непонимании происходящего, бьешься в истерики, агонии, пока тебя бережно не берут на руки, чтобы подарить новую жизнь и отпустить в долгий полёт над океаном, уносящим всю твою боль далеко, как можно дальше от города неоновых огней, заводного джаза и вечных кровопролитий. Открывается второе дыхание, возносящее тебя выше небес, дарующее пародию на счастье, пока пальцы скреплены с чьими-то… другими, чужими, но кровь внутри бурлит, наливаются глаза алым оттенком, затмевая сознание, но не от злости [как бы сильно ты не пыталась вернуть это чувство к себе, вернуть память, что-то утерянное в опустошённой душе, отдающееся тяжкой ноющей болью в животе], а скорее от желания увидеть целый мир с высоты птичьего полёта и вместе с этим приятным чувством, образовавшимся на сердце благодаря одним лишь мягким прикосновениям чужих пальцев, что не раз за последние часы касались рассыпавшихся по коленям волос.
Не думай ни о чём другом, окунаясь в свой сладкий сон. Просто лети дальше, пока есть возможность оставить ненужную, тянущую ко дну меланхолию где-то там, за океаном, чтобы наполнить опустошённую душу чем-то поистине красивым, сказочным, волшебным. Чем-то, что в последний раз ты видела пару веков назад, когда искала дорогого тебе человека, не обращая внимания на открывшуюся красоту, заполненную яркими танцами, звоном бубенцов на юбках уличных танцовщиц и смехом под звон ударяющихся о медные кружки серебряников. Ты не видела настоящей жизни, забитая в собственную «идею», которая никак не давала покоя. Но сейчас… сейчас всё как-то иначе, ведь ты забываешь истинную причину твоего желания уехать как можно дальше. Возможно, это лишь безумный каприз, который выполняется моментально, по щелчку пальцев. Возможно, это просто желание побыть с ним рядом как можно дольше и понять в конце концов, почему сердце начинает так стремительно биться о рёбра, а его глаза вызывают улыбку, стоит только заглянуть глубоко в них, чтобы вновь перенестись на некоторое время назад, в то самое место, где они были вдвоём, где им было хорошо и где они по-настоящему жили, не зная проблем и пятен крови, стекающих по их одежде _ рукам, как за горизонтом этой терпкой призрачной реальности, ударяющей в голову едким _ отвратным наркотиком, который отравлял сознание, заставляя подстраиваться под выдумку _ фантазию, принимая её за реальность. Но сейчас ты резко выдёргиваешь себя из неё, собираясь предстоящие пару дней жить исключительно тем, кто сидит с тобой рядом, погружённый на протяжении восьми часов в собственные мысли, пока ты мирно спишь на его коленях, поджав под себя ноги в этом не очень большом сиденье. И стоит только твоим глазам открыться, стоит только вдохнуть его аромат полной грудью, как ещё с минуту ты почему-то продолжаешь лежать в этом замысловатом положении, едва ощутимо водя пальчиком по его колену. Ещё одну секунду. Буквально одну, после чего приподнимаешься, глядя на него снизу вверх.
— Долго ещё? — секунды и душа играет новыми цветами, окрыляя, заставляя улыбнуться широко, искренне и нежно, чтобы за мгновение оказаться ещё ближе, не стесняясь, но и не позволяя себе слишком многого пока. Каждое прикосновение напоминает врывающуюся в сердца и души музыку, которая заставляет танцевать и при этом находиться как можно ближе друг другу. Ощущать каждый взмах ресниц, каждый вздох, раздающийся под битами громкой _ оглушительной музыки, что проходится потоком электрического тока по всем по звонкам. И ты снова улыбаешься, закидываешь так по-детски на него ноги и осторожно кладешь голову на плечо, ведь так спокойней, так ты снова чувствуешь свою жизнь, которую он тебе единожды уже показал и которую показывает вновь, выдёргивая из хаоса и вечного траура Мистик Фоллс.
— Я есть хочу. Знаешь, я бы не отказалась сейчас от мороженого. Такого, например, шоколадного и с клубничкой сверху, — окутываешь себя сладкой фантазией чего-то возвышенного, лёгкого, что ждёт вас под лазурным небом Парижа, где солнце приятно скользит по изгибам тел, а ветер не перестаёт развевать волосы, сплетая локоны между собой. И вдруг бы эта фантазия воплотилась в реальность? Когда одна за другой ложечка с вкуснейшим шоколадным мороженым быстро таяла на языке, придавая сладкий вкус, окуная в омут наслаждения, чтобы следующая уже оказалась около его губ, искривлённых в лисьей ухмылке. Может, одна злосчастная капля, растаявшая под полуденным солнцем Парижа, всё же упадет раньше остальных, стекая тонкой линией по изгибу шеи, чтобы затем быть убранной едва ощутимым поцелуем. Тем не менее, немного фантазии никому не повредит, чтобы откинуть от разума гнетущие мысли. Ведь вдруг у него всё-таки получится какую-то часть твоих мечтаний воплотить в реальность? Хотя бы этой маленькой прихоти.
Oh, baby girl, you know we're gonna be legends |
|
Окутывается приторно сладкой пеленой лжи разум, оплетается, добровольно кидая себя в непроходимый лабиринт, укрытый острыми камнями, белесыми осколками сгнивших некогда костей, заросший зарослями терновника, добровольно отдавая себя на растерзание самообману, впившемуся в рассудок сильнее прежнего. Все этого желают – кислотно розовой завесы перед глазами, не дающей развидеть реальность, жестокую и неподвластную изменениям, заполненную толпами тех, кто видит смысл жизни в получении желанной власти, в том, что через несколько десятилетии исчезнет, прошуршит мимо незаметной шелестящей тенью, прогнанной прохладным осенним ветерком по пожелтевшим листьям, медленно умирающим, увядающим от слабости, проникающей в них с первыми холодами, прилетевшими с севера на крыльях зимних птиц. Все этого желают – обманчиво спокойной жизни, не обремененной тяготами, избавленной от бремени вечных несчастьи и предательств, что колючими остриями серебряных потемневших от времени кинжалов маячат где-то за спиной, заставляя ожидать следующего удара. Не удается. Не получается. И все ломается. Все ломается, когда все это не удается получить, и приходится делать то, что приходилось делать на протяжении тысяч лет – шагать вперед, забывая о возможном счастье, кусочке той жизни под ярким ослепляющим солнце, дающем тепло и жизненную силу живому, забывая обо всем, чтобы потом вновь вспомнить и схватиться за потаенную мечту. Она никогда не умирает. Хрупкая, ранимая, готовая разрушиться в любую минуту. Она всегда живет, невзирая на многочисленные падения на гранитную землю, невзирая на боль, обжившуюся внутри, превратившуюся в бессмертную спутницу, ведущая под руку по обжигающей металлической поверхности жизни. С каждым разом становится все труднее заваливать проход ядовитым сомнениям, и они прорываются шумным потоком водопада, бешено бьющемся о твердые скалы, об острые грани камней, бережно сохранивших на себе багровые отпечатки чьих-то рук, некогда царапавшихся по ним в тщетных попытках вылезти, выбраться из пелены нескончаемой водной завесы, истачивающей силы минутами, секундами, до тех пор, пока не придется разжать пальцы и позволить реке себя унести. Он не задает себе вопросов о том, отчего стало так легче и так тяжелее на душе, отчего разум превратился в мятежный сгусток эмоции, похожий на комок из длинных, рваных лоскутов теней, заплутавших в собственном же мраке. Загнать себя в ловушку, из которой существует лишь единственный выход, единственная возможность спасти ее, но погубить себя, разламываясь на части. Ответы похожи на вьющиеся над головой полчища ледяных снежинок, несущихся по незримым движениям воздуха, плавно, осторожно стараясь лететь по прямой, не падая, не теряясь в обволакивающей белоснежной мгле, впивающейся в лицо ворохом северного ветра. Он не дышит, когда слышит ее спокойное биение сердца, когда видит ее лицо, понимая, что все это странно, неправильно, что все не так должно быть. В очередной раз он втаптывается собственным эгоизмом в горящий торфяник, от которого в небо поднимаются тучи черного дыма и пепла, который безжалостно полыхает, мерцая в ночи раскаленными ало-красными угольками, простираясь до самого горизонта непроницаемым багровым полотном. Сжать пальцы и разжать в несчетный раз, чтобы решиться попробовать прекратить все, но безвольно опуститься еще глубже, едва увидев ее, едва подумав о предстоящем. Нет, не хочется думать, не хочется выуживать, вытягивать из памяти воспоминания о прошлом, о незабытом, о вечном, о том, что всегда будет вместе с ним. Его кошмар, в будущем грозящий перерасти в нечто реальное, выбравшись из мрачных снов, покрытых поволокой холодного ужаса, цепенящего, насмешливо ухмыляющегося злобным оскалом, при виде которого он говорит себе два простых слова: «не сейчас». И ветер на время уносит грезы, мелькающие неясными колышущимися тенями где-то на грани яви и иного мира, куда-то дальше, под развесистые кроны деревьев, повисающих над головой, точно между небом и землей, поддерживаемые лишь тонкой ветхой нитью. Все больше и больше опадают листья, обнажая ветки, на которых все чаще в холодные ночи образовываются тонкие снежные слои. Все больше он чувствует, как ложь торжествует, прорастая все большим количеством сорняков, которые все сложнее выдирать, которые сплетают ноги, мешая продвижению вперед. Еще пара шагов, еще пара слов, и уже никто не сможет ненавидеть его сильнее, чем он сам себя. За то, что не устоял перед искушением, за то, что слабовольно поддался эгоизму. И пока пальцы скользят по шелковым темным локонам, он чувствует, как самообман постепенно берет свое, одурманивая его сахарными обещаниями, скользкими, елейными, разрезая его, как нож, с противным скрежетом _ скулежом скользящий по стеклу. Пока он завороженно наблюдает за ней, что-то ломает его решимость, оставляя от нее никому ненужные обломки, раскрашивающихся под тяжелыми поступями сотен шагов. Он не станет отступать, когда-нибудь это прекратится, и он это знает. И знание сдирает с него кожу, вырезая прямо на теле замысловатые узоры каленой кочергой, отдаленно похожие на те, что рисовались красками при помощи мягкой кисточки.
Забудь обо всем, забудь. Разум что-то шепчет, запутавшийся, окончательно сдавшийся, но отчего-то живущий все еще, дающий возможность трезво мыслить, рассуждать, держаться на плаву, не позволяя унести себя течениям океана, не позволяя потонуть в череде гигантских морских волн, остающихся на губах отчетливым соленым привкусом при каждом ударе о прибрежные скалы. Дни, ночи – все исчезает в молочно-жемчужных облаках, которые рассекаются на огромной скорости огромными крыльями самолета. Все остается в двух городах, которые, кажется, безвозвратно потонули, затерялись позади несколько часов назад. Нет проблем, нет несчастьи. Нет ничего, что напоминало бы о чем-то неприятном, и только тянущее изнутри чувство, отдающееся терпким вкусом горечи, не дает покоя, жужжа в дальней части сознания. Весь полет он почти не сводит с нее глаз, и это выходит случайно, ненароком. Не обращает внимания на притихшую жажду, спрятавшуюся под замок на некоторое время. Едва шевелится, когда она спит, уютно устроившись у него на коленях. Только между пальцев то и дело змейкой пробегают ее непослушные пряди волос, падающие ей на лицо, которые он тотчас убирает. Он не жалеет, что пришлось покинуть семью, убравшись из Нового Орлеана, чтобы вновь ощутить жизнь, текущую горючими разрядами тока и ручейками жидкого огня по мертвым венам, заполненным почти черной кровью. Так было нужно. Так ей было нужно. И лишний шум мыслей отступает, стоит ей только двинуться, обратив на себя его пристальное внимание. Тепло улыбается ей, приветствуя ее после долгого сна, на миг вглядевшись в ее глаза и вновь не найдя в них жестких колючих искорок ненависти. Что-то в этом неправильное, но он в очередной раз прогоняет от себя сомнения, еще раз за эти несколько часов вдохнув ее сладкий запах, так странно кружащий голову. Нет, это не странно, ведь он уже и так понял, просто теперь он боится в этом себе признаться, боится, так как не может поверить.
- Недолго. Уже скоро сядем, – широко улыбается, радуясь одному тому, что она рядом, так близко, что он ощущает тепло ее тела, согревающими, подобно искрящимся солнечным лучам, подобно тем электрическим зарядам, что танцевали между ними одной ночью в Новом Орлеане, позабытой для всех, но осторожно сохраненной в памяти ими обоими. Проводит пальцем по ее щеке, нежно, осторожно, глядя ей в глаза. Сейчас не хочется думать о том, что все это прекратится в один день, не хочется думать, что все это разрушится еще одной иллюзией, построенной по его капризной прихоти или нежелания продолжать причинять ей боль, но он знает, что то, что он сделал, причинит ей еще большие мучения. И ему не будет за это прощения. А он все еще продолжает обманывать и ее, и себя, отрезая себе путь к выходу, но он и не хочет идти к нему, пока она рядом. Пока он живет ею, дышит. Пока видит ее каждый день. Пока наслаждается ее присутствием, позволяя ей проникать в свою душу все глубже и глубже с каждым мгновением, улетучивающемся прочь от взоров незамеченным и смеющимся. Он задорно приподнимает брови, довольно играя пальцами на ее коленках, как и она это делала минутой назад, жмурится, слегка поворачивая голову к ней, несколько восхищенно изучая ее искреннюю улыбку.
- Мм, теперь и мне захотелось мороженого. Шоколадного. Как только сойдем с этого самолета, идем в ближайшее кафе. Ну, или в самое лучшее, если терпения у нас на то хватит, – пальцы привычно скользят к ее волосам, играясь уже с ними, позволяя им струится, утекать, а затем вновь подхватывать в воздухе, не давая им упасть. Ее горячее дыхание вырывается из губ, находящихся слишком близко, чтобы устоять, чтобы не акцентировать на этом внимание. Отчаянно хочется прикоснуться. Снова и снова. Не останавливаться. - Уже есть пожелания, куда хочется пойти в первую очередь? – легко смеется, словно за спиной и нет ничего такого, вроде прошлого, темного, покрытого кровью и гибелью бесчисленных жертв, вроде бед, бурящих в душе все новые и новые дыры. Но, быть может, сейчас все так оно и есть – здесь только они, и никого больше.
| ТЫ МНЕ НУЖЕН |
maeva meline - besoin de nous
Утерянное время невозможно вернуть. Протекая водой сквозь пальцы, оно утопает в пучине воспоминаний, остающихся где-то на заднем фоне лишь ещё одним осколком, глубоко застрявшем в самом сердце. Сложно поймать то, что стремится от нас убежать _ покинуть _ исчезнуть, как бы сильно мы за этим не гнались, желая заполучить и пригреть у сердца хотя бы на мгновение, чтобы была возможность пожить секунды в месте, что подобно раю, а не превращаться в завядший цветок где-то на самой бездне, лишённой кислорода. В горящем пекле. В наших собственных кошмарах. Длинный путь отнимает также много времени, не правда? И ты совсем не успеваешь повернуть голову с искривлённым в ужасе выражением лица, чтобы ухватиться за пролетающий мимо фантомом момент твоего искромётного счастья, что со свистом проносится в волосах, развевая их в разные стороны, а затем облачаясь глухой и неслышимой тишиной, давящей [кричащей] в темноте ночи. Ничего. Ничего тут нет! Зачем обманывать, вновь играясь с разумом, подобно марионетке, вовремя дёргая за нужные ниточки, которые растягивают _ разрывают кожу на мельчайшие клочки, опадающие как первые листья холодной и суровой осенью, приносящее свою боль _ трагедию _ меланхолию. Скользит ветер по изгибам тела, что кутается в бесформенны колючий свитер собственных воспоминаний. Теплее не становится, наоборот – холоднее, отчего бездумно _ потеряно начинаешь искать в толпе родные глаза, способные согреть в любую январскую стужу. Обжигающие прикосновения, запретная близость и затем покрытая белесой пеленой реальность, оставшаяся где-то за спиной смиренно ждать своего часа, пока ты соизволишь собраться с духом и выйти из сумрака желаний и мечтаний, что проходятся быстрым электрическим потоком по твоим венам, то ли придавая сил, то ли наоборот – забирая у жизни. А сердце понемногу начинает трескаться, когда кричишь о помощи, просишь, взвываешь, умоляешь, а вместо этого только твоё эхо ударяющиеся о пустые стены и возвращающееся в твоё сознание, которое мирно спит, спрятанное от царящей вокруг жестокости и зла. Дождись своего момента. Выдохни из лёгких спёртый воздух и сигаретный дым, дабы очиститься. Потом посмотри на бледное заболевшее небо и попытайся не впускать в себя это уныние, которое осторожно в призрачном вальсе, шурша юбками, касается каждого мимо проходящего. Ты посмотри повнимательнее на пролетающих мимо птиц, посмотри и улыбнись им, пожелав удачной дороги в их длинном пути; улыбнись, даже когда потеряешь их из виду; порадуйся жизни, сунув руки в карманы пальто и шагая по грязным лужам, не обращая внимания на унылые лица. Эти два города [Мистик Фоллс и Новый Орлеан] много боли причинили, но и хорошее в них также есть, не правда ли? Эти унылые и продрогшие города становились не раз твоей погибелью, а ты забудь, отпустив далеко в прошлое [назад] все свои тяжелые удручающие воспоминания, возрождаясь из этого пепла сгоревшего дотла города и чувств, будто Феникс, так долго ищущий своё спасение в сумрачном мраке, а нашедший не сумел воспользоваться должным образом, теряя при этом часть себя – свою человечность. Вспыхни ярким пламенем, обжигая всё вокруг себя, чтобы потом прорваться в мир своей искренней улыбкой, но всё ещё тяжкой горечью от обиды и предательства оставшейся пятном на сердце, что расползается витиеватыми нитями, порабощая. Многое сложно забыть, и ты знаешь, что даже шагая по мрачному и яркому одновременно Новому Орлеану, ты будешь помнить то, что колется в груди, вызывая тяжёлый вздох, а затем какое-то чувство опустошённости, что тянет в самый низ. Может, твоя улыбка и говорит об обратном; может, ты пытаешься жить новой жизнью; может, ты забываешь медленно обо всём, от чего раньше заводилась с первой секунды. И останавливаясь посреди улицы, утопая в его объятиях и запахе, картинки всей жизни проносятся перед глазами, пока ты что-то утерянное пытаешься в них найти, восстановить по кусочкам, но не получается абсолютно, ведь мгновение – и ты уже выкидываешь из разума всё, что не касается его. Вот тебе восемь лет, а тебя уже отдали в другую семью на воспитание; тебе шестнадцать, а ты всё также боишься жизни _ жестокости, забитая в угол, а после тебя выдают замуж, обрекая на вечные страдания; теперь ты вампир, убивающий всех, кто попадался тогда под руку, вызывая гнев и дикое желание поскорее насытиться новой дозой крови; а вот ты стоишь на каком-то холме рядом с Чарли [ты любила его называть так ласково и задорно] и смотрите вдаль, как горят деревни от одной твоей спички, как рушится твой мир и твоя человечность, после чего ты начинаешь оставлять за собой горы трупов, делая всё возможное, дабы найти свою мать; а вот ты умираешь, издавая последний вдох в окружении людей, которых на тебя, грубо говоря, плевать, которые сами приняли [пусть и косвенное] участие в твоей смерти; и, пожалуй, одно из самых запоминающихся воспоминаний, которое ты не отпускаешь от себя, как все остальные, а держишь при себе [возле сердца], ибо это связывает тебя с ним вместе. Огни ночного Нового Орлеана запомнятся навсегда, особенно, если это огни его искрящихся глаз. Ты ошиблась, говоря, что это лишь мимолётная ночь, ничем конкретным не заканчивающаяся, а наоборот – разводящая по разные стороны двух миров, разделяя тяжёло стальной преградой. Ты ошиблась, когда уверяла себя, что не потянешься к нему обратно, что забудешь и начнёшь жизнь в Мистик Фоллс с чистого листа, а потом… потом он резко, будто ураган, врывается в твою жизнь, разрушая привычные стереотипы и маня тебя к себе, при этом доставая из тины боли, в которой ты утонула в проклятом мистическом городе. Он стал твоим спасеньем. И теперь он, кажется, будет рядом столько, сколько тебе нужно.
Лучи солнца игриво играются на его лице, скользя по рукам, пальцы которых не могут оставить в покое едва вьющиеся тёмные локоны, рассыпанные по узким плечам. Ты ловишь его дыхание, его улыбку и успеваешь даже подметить то, как он смотрит на тебя, едва ли не вгоняя в ступор. Часть тебя счастлива, а часть тебя всё ещё живёт той жестокой жизнью Нади Петровой, странствующей на протяжении пяти веков в поисках своей семьи, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя нужной и любимой. Убивай в себе прошлую жизнь, сейчас она ни к чему, совершенно, ведь ты на пути к собственному счастью, ты буквально держишь его за руку и скользишь кончиком носа по идеально прямой скуле, чтобы спуститься ниже, оставляя лёгкие поцелуи на шее и мало улавливая суть его слов.
— Обещаю тебя им покормить, — твои пальцы игриво забираются в его волосы, что рассыпаются и небрежно ложатся на мягкую кожу, переплетаясь между собой. — В первую очередь мне определенно хотелось бы пойти в свой номер. Надеюсь, он у меня будет отдельно от тебя? Или здесь тоже ждать подвоха какого-нибудь, м? — тебе нравится его дразнит, нравится немного вредничать, ломая комедию, которую потом обязательно компенсируешь чем-то, что окажется для него приятным // чем-то, что он примет с неприкрытым наслаждением в глазах. И навсегда заполнить сказку, ставшую реальностью, под лазурным небом Парижа. Останется в сердце так же долго, как ваша ночь в Новом Орлеане. Странно, наверное, что два таких волшебных и манящих города сводят вас вместе для того, чтобы крепко сжать пальцы друг друга в ладони и дёрнуть за завесу, ставшую перед вами и новой жизнью, лишённой всяческой боли, трагедии и вечной драмы, а наполненной только каким-то невероятным эфемерным чувством наслаждения, больше похожего на то самое счастье, которое, кажется, никто из вас не испытывал никогда прежде в полной мере. Ты вновь тянешься к нему, закрыв глаза и открыв своё сердце, потому что он становится спасителем, который убивает вокруг тебя всех демонов и позволяет одним прикосновением излечить собственных. И он становится твоим воздухом. Твоей жизнью. Твоим…
I wanna take you somewhere so you know I care, but it's so cold and I don't know where, |
|
Невозможно вернуться в прошлое, невозможно отмотать время назад на несколько дней, на несколько лет, на несколько веков, невозможно исправить некогда содеянное, что черным пятном лежит на душе, не смываясь, не поддаваясь течению всевластного времени, которое, несомненно, летит мимо, язвительно насмехаясь над каждым, кого задевает угольно-черным крылом. Поступки, грязные, бесчестные, не имеющие никакого оправдания, изначально не имевшие никаких причин для собственного возникновения – все они лежат на сердце, витают среди мыслей в толщах беспробудных вод сознания, неистово качающегося в очередных бурях сомнениях, в битвах с самим собой, в бесчисленных штормах, не сожалеющих ни о ком и ни о чем. И раз за разом холодный ветер сметает на своем пути все, что не приковано тяжелыми стальными цепями, и уносит их с собой в небо, даруя им долгожданную новую жизнь, уча их летать под облаками, не думая ни о чем, забывая о бедах, несчастьях, что густыми черными дымками вьются где-то внизу, в нескольких метрах над землей, покрывая все до горизонта невидимым слоем пепла. Кислота разъедает все внутри, отчего приходится откидывать голову и устало выдыхать воздух из мертвых легких, которые живут, пародируя свою давно позабытую функцию, пытаются поддерживать организм уже ненужным кислородом, насыщая необходимыми веществами мертвые клетки, которым уже давно нужно только одно – то, что течет в венах живых людей, сладкая, заманчиво багряная кровь, жидкость, что определяет все существование бессмертных. Вдох-выдох. Шаг за шагом. Пропасть уже близко. И он слышит ее зов, который завораживает, обволакивает сладостной дымкой, не давая отступить, не давая никому повернуть вспять, не давая сделать все правильно. Она раззявила свою пасть, в которой подобно белоснежным клыкам белеют кости погибших, давно забытых, имен коих не помнит сам мир – еще немного, и он в нее упадет, а она не поленится захватить его полностью, поглотить так, что он затеряется для всех абсолютно, даже для самого себя. Он не исчезнет в безвестности, он останется на прежнем месте. Он просто станет тем, кем был на продолжении целого тысячелетия – монстром, имени которого страшится каждый враг, чудовищем, не имеющим ни грамма жалости, погрязшим в собственном гневе и безумном бешенстве, психопатом, для которого не существует совершенно никаких правил. Еще один шаг. Еще одна секунда. Все это отсчитывает время до его полного превращения в жестокого и равнодушного к бедам прочих первородного вампира, которым он был всегда. Он не жалеет, ведь пока он живет. Живет, точно так же, как и тогда, в ночном клубе, когда под оглушительным ревом музыки выплеталось нечто новое, нечто, что показывало новую жизнь, новое дыхание, желание жить дальше, вернуться назад и остаться там навечно. Несомненно, это стоит того. Она стоит того. Но когда с него упадут маски, с нее упадет иллюзорная жизнь, лишенная несчастьи с его участием, она вновь увидит его таким, каким он всегда был, каким оказался для нее проклятием, демоном, увлекающим ее непрерывно за собой в самую бездну пылающего Ада, и с этим он ничего не сможет сделать. И вновь на его руки прольется втрое больше крови. Она узнает в нем того обожженного в вечном огне дьявола, что преследует ее вот уже третье столетие, и уйдет, а он останется один где-то затерянный посреди безграничных ледяных пустошей, небеса над которыми смеются громко и протяжно заунывным хохотом, темные, сизые, пропитанные холодами севера, насыщающие его сердце знакомыми льдами. А пока он живет. Нет вопросов. Нет ответов. Нужны ли они или нет, он не знает. И не хочет в них вдумываться, ведь его рассудок и так давно помутился, все больше позволяя оплетать себя извилистым виноградным лозам, позволяя себе теряться в обманчивой жизни, готовой рассыпаться при первых касаниях солнечных лучей на рассвете, хрустальной, хрупкой, тонкой, чересчур нежной, чтобы быть реальностью. Он путается все чаще, и ищет выход, но в этом лабиринте его нет, и у него нет нити Ариадны, чтоб выбраться на свободу. В его руках всего лишь его собственная ложь, которую он отчаянно сжимает, страшась случайно разбить, сломать, и тем самым обрушить все раньше времени – нет, еще рано, нет, еще не время, нет… Он закрывает глаза, представляя, что все это правда, что все это так и есть на самом деле, что все его страхи пустые, неоправданные фантазии, выдумки его разума, но нет. Это все не так, как бы он ни хотел этого. Он сошел с ума, окончательно и бесповоротно, ведь он знает всю правду, всю историю, и себе он не в состоянии стереть память – он обречен жить в обнимку со своей ложью, которая свернулась вокруг его шеи стальной удавкой. Пока сквозь его пальцы скользят ее волосы он все еще чувствует себя живым, беззаботным, но стоит ей только отвернуться, стоит ей только закрыть глаза и отвлечься на что-то еще, как тьма возвращается, мелькая страхами, сомнениями перед ним, заставляя устало выдыхать, пытая, причиняя боль вероятным развитием будущего. Он во всем сам виноват, ведь возможно был иной способ разрешения ситуации, был еще какой-то выход, но он просто не пожелал его искать, махнул рукой и поступил как и всегда – воспользовался своей силой, имеющейся властью, как дитя, не умеющее иначе распутываться из бесконечных проблем. И что бы ни произошло потом, что бы его ни ждало, что бы ни настигло ее – все это его вина, все это на его совести.
Время замирает, когда она смотрит на него, заставляя хитро прищуриваться, слегка смешливо, ведя себя задорно, как сверх меры довольный лис, с которым некогда его часто сравнивали родные. Пальцы все еще держатся за ее пряди ее волос, заплетшись в них. Когда-нибудь все это исчезнет из реальности, но не из его памяти. Он все это запомнит, сохранит все воспоминания связанные с ней, которые будут причинять ему затяжную боль, но иного выбора у него уже не будет. Он не станет держать ее своей заложницей вечность. Не станет сдерживать в капкане своих капризов и желаний. Не станет цепляться за то, что никогда не станет истиной. Рано или поздно он ее отпустит, не смея заглянуть в глаза. Таким будет исход. И он не знает, что будет с ним, как переживет все то, но он знает, что она будет на свободе. Наклоняет к ней голову, наслаждаясь ее прикосновениями к лицу, легкими поцелуями. По лисьи улыбается, когда ее пальцы зарываются ему в волосы – приятно. В такие моменты ему кажется, что от этого всего он не сможет отказаться. В такие моменты ему просто хочется обнять ее и не отпускать уже никогда.
- Звучит весьма соблазнительно, – и смеется, слыша ее слова о собственном номере. - Конечно, у тебя будет свой номер. Кстати, для сведения, мой будет для тебя открыт в любое время суток, – продолжает игриво смеяться, забавляясь этим, забывая совершенно о тягостных мыслях, которые жужжащим роем не давали ему покоя на протяжении целого полета. Скоро самолет сядет, и ему нужно будет забыть про них совсем. Ради нее. Ради себя. И пожить немного для них обоих, друг для друга. Одно движение, одно мгновение, и он целует ее в губы. Легко и непринужденно. Коротко. Заглядывает ей в глаза, радуясь тому, что она рядом, пусть и так, пусть все это и временно. Обо всем этом не хочется думать. Искренне улыбается, пока ее локоны выскальзывают из пальцев, просачиваясь и падая на ее плечи, но вместо того, чтобы вновь схватиться за них, он проводит пальцами по ее скулам, подбородку, осторожно водит по изгибу губ, точно запоминая в них все, глядя в ее светящиеся от радости глаза. Если бы он мог заставить время остановиться, он сделал бы это непременно. Если бы он мог, все было бы настоящим. Однако все это не в его власти. И все, что он делает, это запоминает все, запечатлевает абсолютно все, не желая терять, позволять уплывать в бесшумных, незримых течениях Леты.



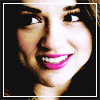
на окнах обретают тишину седые мотыльки
и наполняют лунной пылью крыл мой дом.
не отнимай из рук моих своей руки.
оставь мне осень между третьим и четвертым позвонком.
Есть в жизни каждого человека такое ползучее _ едкое чувство, когда теряешься на просторе собственного пути, не зная, на какие следы будет лучше наступить. Есть в жизнь каждого такой период, когда холод пробирается внутрь колючими лапами и терзает так, что мы не остаёмся равнодушными к окружающему миру, понимая, что здесь нам уже нет места. Всё теряется, превращаясь в прах. Есть такое чувство… Впрочем, что это за чувство, которое становится горькой болью, сравнимой с самыми острыми иглами, которые только могут быть на земле? Впрочем, что это за чувство, которое имеет возможность стать привычкой, стать постоянной и неотъемлемой частью наших жизней? Да, это страх. Страх, который имеет возможность разрывать нас на мельчайшие кусочки, сравнивая с землёй и руша фундамент нашей человечности во что бы то ни стало. Будто прекращаем быть реально существующими персонажами, будто становимся фантомами, неуклюже вырезанными из бумаги куклами, в чьих душах лишь белоснежная пустота, упавшая мягким снегом. Нас так просто сломать, нас так просто согнуть, разрушить, истребить, отчего птицы взлетают выше к небесам, унося нас вместе, дабы после скинуть с запредельной высоты в пустоту, разъедающую кислотой до дыр. Нас ничего не заполняет до тех пор, пока в наших жизнях не появляется что-то _ кто-то особенный, превращающий в искрящуюся звезду то, что сгорело и погасло, казалось, навсегда. И мы тянемся, раскрываемся с этой новой жизнью, которая распускается внутри огромным ярко-красным бутоном, отдающим терпким ароматом, что дурманит рассудок, позволяя расплыться в улыбке и задуматься, а что… что если? Эти бесконечные «если» любят всплывать беспочвенно, а мир теряет прежнее очарование, превращаясь в первоначальную сухую корку, пожелтевшую от полуденного солнца и замёрзшую во время холодных одиноких ночей. Когда появляются рядом руки, согревающие, обнимающие и питающие новой жизнью, ты на подсознательном уровне уже готовишься к худшему, зная, что всё чудесно и прекрасно по велению судьбы быть не может; зная, что здесь определенно следует искать какой-то подвох, скрытый за семью печатями и стирающий реальность в небытие. Страхи поглощают, срывают крышу гораздо больше, чем что-то возвышенное, трепетное, что задевает сердца невидимым ангельским перышком, превращая потускневший мир в сгусток ярких красок, что игриво переливаются _ сливаются друг с другом, играя в какую-то только им замысловатую игру, утягивающую и заставляющую погрузиться в неё с головой. В горле застревает вся твоя разом скопившаяся боль, которая постепенно рассасывается горячим дыханием, пойманным исцелованными неистово губами, что лишь просят о продолжении. Будто так ты ищешь себя в этом постоянно изменяющемся мире; будто только так у тебя есть возможность взлететь птицей к небесам; найти то, что ощущается таким потерянным [вырванным из души клоком], ноющим и сгорающим при каждой попытке собраться и вспомнить о стёртых напрочь воспоминаниях. Что-то было, что-то трогало твоё сердце не единожды, но что именно – ты не можешь никак вспомнить. И даже не уверена на все сто процентов, что твоё воспоминание действительно реально, что оно действительно существовало. Замираешь, когда в глотке скребутся твои демоны, рвутся наружу, пока ты смотришь в его глаза, пытаясь найти в них не только своё отражение, но и, непосредственно, ответ на волнующий вопрос. Я что-то пропустила? Я чего-то не знаю? Чего ты мне недоговариваешь? Но потом все мысли стираются разом, обращаясь в прах, ведь ты молчишь. Снова и снова, глотая всю боль, все переживания и иные чувства, способные загубить искреннюю светлую улыбку и вновь посеять между вами семя раздора. Нет, только не сейчас. Тебе плевать на твои сомнения, на страхи, на всё, что ставит между вами преграду, потому что ты готова протянуть руку, сжать его пальцы и попросить никогда не отпускать. Разве нужно что-то ещё для жизни? Разве можно попросить у всевышнего большего, когда самое важное и так рядом с тобой, помогая тебе дышать и ломая капкан, в который угодила по собственной глупости. Он вновь тащит тебя в реальную жизнь. Он вновь поджигает спичку внутри тебя, заставляя пожар разгореться и плясать яркими языками, что сталкиваются друг с другом, становясь единым целом. Он вновь ведёт тебя по истоптанной вами же тропинке, чтобы открыть глаза на серый мир, способный за мгновение преобразиться до неузнаваемости. Ты можешь. Ты можешь вновь ощутить на себе мягкие прикосновения, будто алый шелк осторожно скользит по плечам, чтобы скатиться по изгибам тела гладко и быстро, не задерживаясь особо на пути, дабы была возможность как можно скорее оголить твою душу, открывающуюся только для него. Что тогда он смог прикоснуться и разглядеть большую часть помятого покрывала, именуемого твоей душой, что сейчас он проникает туда сильнее, пуская корни и забирая её полностью в свою власть. Какая разница, в чьих руках она окажется? Какая разница, кто будет дёргать за ниточки? Не то ли причина твоей широкой улыбки, ползущей по лицу со сладкими поцелуями? Не то ли причина твоего стремительно колотящегося о рёбра сердца? Не то ли твоя главная слабость, которой ты бездумно отдаёшься с головой. Позволяешь слишком много, но иначе не получается, ведь в его присутствии ты всё чаще начинаешь сходить с ума, как одержимая дыша им, наслаждаясь и выключая всякое мышление, чтобы действовать могла исключительно по зову собственного сердечка. Оно ещё не любит, но оно, кажется, стремится к этому. Стремится вновь собрать себя по кусочкам в одну большую картинку, которую некогда безжалостно разбили, втоптали в грязь и разбросали осколки по сырой земле. Бим-бам-бум. Твоё сердце снова живёт, твоё сердце вновь бьётся так быстро, будто ты видишь глаза этого человека впервые в жизни; будто также впервые прикасаешься пальцами к его щекам, чтобы насладиться столь тёплыми ощущениями, значащими для тебя гораздо больше всяких поцелуев, передающие куда больше скрытых в тебе чувств, которым ещё только предстоит вырасти, развиться и начать свою жизнь, вспоминая с упоением яркие неоновые огни и глупую музыку, заглушающую лишь посторонний шум, но вряд ли имеющую возможность заглушить гулкое биение в унисон двух сердец, которым не нужен кислород, ведь они и без того могут просто дышать друг другом.
Ты в который раз ловишь себя на мысли, что сейчас он только т в о й и больше ни чей, поэтому ты пытаешься удержать это сладкое мгновение возле себя как можно дольше, дабы была возможность вдоволь наслаждаться каждым его вдохом в мёртвые лёгкие, давать ему необходимую жизнь и просто идти рядом дальше по этой прямой тропинке, кажущейся для тебя слишком лёгкой, ведь давно уяснила, что в жизни ничего не бывает просто, ничего не бывает легко. Но его поцелуй заставляет откинуть прочь любые сомнения, поселившиеся крикливыми воронами в голове. Его поцелуй заставляет твоё сердце остановиться и замереть в неведенье, пока он не позволит сделать тебе вдох. Один только вдох им, позволяющий тебе снова жить и снова дарить его озорному блеску в родных глазах искреннюю и светлую улыбку, коей в твоей жизни за пять веков не было практически никогда. Теперь ты знаешь, что такое жить по-настоящему, верно?
— А если я не хочу отдельный номер? Если я темноты боюсь по ночам? — ты быстро перехватываешь его пальцы, чтобы сжать в ладони крепко, давая понять – ты не отпустишь его, а затем осторожно подносишь к губам, чтобы оставить на них лёгкий поцелуй. Рука об руку до встречи с землёй, пока не рухнет огромная птица, пока у тебя ещё есть возможность радоваться и наслаждаться, пока ты живёшь… Держись крепче. За него, за это чувство, за свою жизнь. Ведь в любой момент она может рухнуть так же быстро, как взрывается самолёт, теряя своё равновесие, теряя себя в воздухе, погибая в пустынном сером облаке дыма. Но ещё немного можно побыть счастливой или хотя бы частично понять, какого это?
— Я не отпу… — ты запинаешься, переводя дыхание и смеясь, а затем спешишь откинуться на спинку своего кресла, всё также продолжая сжимать его пальцы в своей ладони. — Мы уже садимся, поэтому я буду держаться за тебя, ибо для меня это самая неприятная часть перелёта, да, — весело, непринуждённо, легко, словно вы знакомы друг с другом так долго, чтобы в твоей душе разгорелся пожар, чтобы ты могла питать к нему такие крепкие чувства, разрывающие ночами на кусочки, стоит только холоду одиночества покрыть твои плечи колючей шалью. Когда-нибудь сказке настанет конец, и ты прекрасно это понимаешь, но финальный аккорд волнует тебя, пожалуй, меньше всего. Больше всего твое заботой стали мысли о том, что же так сильно тянет к нему ещё с той ночи, когда он был совершенно другим. Но ты забываешь абсолютно всё, разглядывая в нём того самого человека [а не чудовище, в отличие от его старшего брата], который показал тебе настоящую жизнь, который стал твоим единственным спасением, который стал на время твоим, пусть даже в мыслях. И вот ты вновь смотришь на него, убеждаясь в собственных мыслях. Вновь улыбаешься. Вновь наслаждаешься им. Вновь живёшь им/вместе с ним/рядом.
That little kiss you stole it held my heart and soul |
|
Капли крови падают на вылощенный ледяным ливнем асфальт, поблескивающий в мрачных отсветах тусклых желтых огней фонарей, вычищенный от грехов, павших с плеч попрятавшихся под укрытия людей, капли крови падают с холодных пальцев одна за другой, стекая, не оставляя ничего о себе на память, только ворох болезненных воспоминании. Пока он смотрит на нее, он живет. Пока она отворачивается, он умирает. Раз за разом. Он уже раньше умирал, сгорал в беспощадном огне, пожирающем каждую клетку его тела, терял последние дыхания от темного проклятия, разгрызавшего его на части, разрушавшем то юное смертное тело, коим его наградила мать. Он уже чувствовал то, как темнота окутывает, обволакивает, относя его душу на ту сторону, отделяя его от всего мира незримой стеной, и этот страх, что врывался в разум, выдалбливая в нем место только для себя, отторгая все прочие эмоции, заставляя чувствовать, ощущать, чуять безысходность снова, и снова, и снова, заставляя кричать, а затем замолкать, зная о том, что ничто больше не поможет, что он остался один, одним из бесплотных призраков. Не хочется об этом вспоминать. Не хочется об этом думать. Не хочется, но каждый раз, когда она улыбается, в нем начинают просыпаться те самые чувства, начинает ворочаться его ненависть к самому себе, отвращение – это все иллюзия для нее и для него, это ненастоящая жизнь для них, это всего лишь мечты, неуклюже, но обманчиво красиво, спокойно воплотившиеся в реальность на некоторое время благодаря его неудачной идее, капризу или желанию защитить ее на краткий срок… но ведь он ее убивает. Глядя на нее, он задает себе вопрос о том, что будет, когда она «очнется», как именно она посмотрит на него, когда красивая сказка, написанная на воздухе чьими-то пальцами, минутами вырисовывающими причудливые узоры и полоски, проржавеет под тяжестью скоротечного времени и рухнет на землю старыми осколками металла. Успокаивать себя получается все меньше, ведь в ее глазах он начинает находить оттенки пролетающих мимо вопросов о том, что происходит, о том, правда ли это все, о том, что было в прошлом. Остается только ждать. Ждать каждого мгновения, когда она взглянет, улыбнется. Это всего стоит. Стоит всего того, что на него навалится, всего, что он возможно выдержит, а возможно нет и он просто решит, что дальше нет смысла ждать, терпеть, жить. Он не знает, что произойдет в будущем, как и все бессмертные, даже те, что прожили в мире более тысячи лет, сотни и годы скитаясь по миру, знакомясь с новым и прощаясь со старым ежедневно – они все мнят себя всесильными, однако все они на самом деле слабы, все они любят обманывать себя ложными обещаниями, которые сами же себе дают, а потом нарушают, думая, что они короли мира. Но все не так. Все много иначе. И он такой же, как и они, ведь он в очередной раз допускает ошибку в свою жизнь, ломая ее своими же руками, так, что слышен громкий сухой треск костей, он такой же, как и они, ведь он позволяет себе ломать ее в очередной раз, обманывая ее жизнью в красивой обертке. Ты слышишь меня, Надя? Беги. Беги прочь. Забудь обо всем и не возвращайся. Живи своей жизнью, предавая забвению воспоминания обо мне... Слова бьются пустым ветром в голове, голосами, которым еще не пришло время донестись до нее, вызвав ужас, что медленно, но верно в свой час настигнет, укоренившись в глазах. И каждый раз что-то рушится, когда она смеется. Он обретает возможность улыбаться искренне, получает шанс прочувствовать биение жизни в грудной клетке, точно там все так же, как и в далеком прошлом, билось живое сердце. Он дышит. И живет. Но за это он отнимает что-то у нее, и в обмен на все это счастье он становится ее погибелью в образе того, кто желает ей помочь. А он желает. Он хочет, чтобы все это было правдой без гипноза, без его самонадеянных слов, но пора уже смириться с тем, что он всего лишь тот, кто несет для нее смерть. Не хочется об этом думать, уходить в себя, закрываясь от всего мира, вместо этого он ограждает себя толщами ледяных скал от истины. Он прячется в ее дыхании, в ее присутствии, позволяя себе некоторую вольность, позволяя себе несколько открыться, дать ей увидеть крупицу всего того, что он к ней начал испытывать за такой короткий срок. Думал ли он когда-нибудь, что такое с ним произойдет? Думал ли он о том, что когда-нибудь кто-то станет для него дороже едва ли не всей семьи и его самого? Думал ли он, что все когда-нибудь станет именно так? Думал ли он, что полюбит, а не испытает очередную подростковую влюбленность? Нет. Не думал. Он и сейчас об этом с трудом думает, не позволяет себе мечтать о несбыточном. Не верит в то, что в будущем все изменится, что все будет несколько не так, как он считает, не так, как на той мрачной картине предстоящего, которую он себе нарисовал. Все будет плохо. Он потеряет ее, потеряет себя, а пока… а пока он продолжает судорожно хвататься за нее, держать ее за руку крепко, восторгаясь ею в невозможности наглядеться, насытиться ее близостью.
Он улыбается ей, не вымучивая из себя улыбки, как привык это делать веками, вдыхает ее аромат, не желая пропускать мимо себя ничего из того, что связано с ней. Сейчас он видит то, какой могла бы быть их жизнь, если бы все было в иной жизни, если бы все было несколько иначе хотя бы в этой, если бы он не был тем, кем был, если бы сотни три назад они разминулись, разошлись, не обратив друг на друга внимания, и встретились впервые только в том клубе. Он бы все отдал за подобное развитие их истории без боли и страдании. Без пыток. Без отражения Ада в глазах друг друга. Сейчас они принадлежат только друг другу. Сейчас ничто иное неважно. Сейчас… Слишком быстро прерывается поцелуй, и его почти не хватает, чтобы получить новый вдох, дозу кислорода. Пальцы отчаянно сжимают ее ладонь, грея их и согреваясь сами. Ее слова едва доносятся до него. И все равно этого мало. Всего мало. И он смеется, промотав ее слова у себя в мыслях, тепло и искренно, так, как давно не было. Еще никогда он не начинал видеть в ком-то смысл всего, еще никогда не ставил кого-то выше своего эго, выше себя самого. Еще никогда кто-то не становился настолько важен, настолько дорог. Он не заметил, как начал жить рядом с ней.
- Тогда какое счастье, что я сумел заказать только один номер. Второго свободного не оказалось, – задорно заглядывает ей в глаза, смеясь просто так, без всякой на то причины.
- Тебе не стоит бояться. Ничего. Даже этого самолета, – не рядом с ним – ничто не посмеет дотронуться даже ее волоска, ничто не приблизится к ней без ее на то воли. Он будет рядом, постарается, и уйдет, исчезнет лишь тогда, когда первые ветра зимы задуют с севера, когда она прогонит его прочь, но для этого пока еще не настало время. Он целует ее кончики ее пальцев, сжимающих его руку. Этот самолет уже садится, и уже нет времени для пустых страхов и лжи, нет времени для того, чтобы уделять им время. Есть только они в этом мире, а все прочее останется лишь досаждающим слух фоном, все окружающее для него станет необъятной пустотой, ведь ни на что иное он просто не обратит внимания, не посмотрит, не уделит ни минуты, оставляя себя прикованным к ней. И пока огромная машина заходит на посадку свободно и спокойно, он не сводит с нее глаз, слушая, как бьется ее сердце, отбивая ему одному известный ритм, слушая, как роется в его мыслях хор бессвязных вопросов, не требующих ответов. Слышишь? Все ответы найдены, но уже поздно делать что-то, прилагать усилия, чтобы все изменить, но пока это неважно, пока они здесь и вокруг нет больше ничего напоминающего о прошлом.
Вы здесь » MIGHTYCROSS » adventure time » until it hurts


















